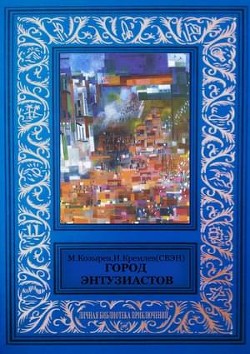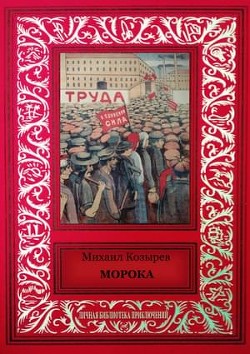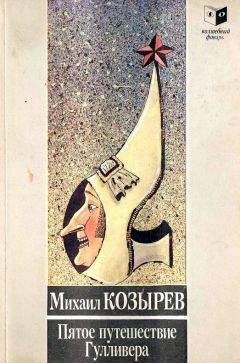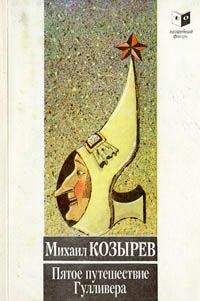– Не может быть.
– Он уж в секретаревой избе сидит.
Подходили к околице, смотрели вниз на заросшую лощину – древнее озеро, на все эти заливы и острова, смотрели с особенным выражением не то грусти, не то недоумения, не то жалости.
– Берегли, берегли, – а вот на поди…
– Грех рубить, – указывали старики.
– Грех не грех, – а лес наш. Хотим – рубим, хотим – бережем, – возражали молодые.
Но и старые и молодые одинаково были недовольны.
К вечеру разговор превратился в общий и непрерывный гул. Поговаривали уже не о том, что вот приехал не знай кто, не знай зачем, – говорили прямо, что лесу грозит опасность, и обсуждали, каким бы путем спровадить нежданного гостя так, чтобы он никогда не возымел охоты вернуться на Слуховщину.
– Не дадим рубить.
– Прогоним, – говорили самые смелые.
– У председателя бы спросить – правда ли, – указывали осторожные.
– Что знает твой председатель? На шут он нам, – отвечали другие, совершенно резонно полагая, что председатель но самой должности своей не имеет права сочувствовать им.
Надо было найти авторитет более крепкий, более устойчивый, а главное более независимый. Таким авторитетом оказался Михалок.
Кто же такой Михалок? Седовласый патриарх, вождь лесных мужиков, некоронованный властелин древней Слуховщины, потомок Ильи Муромца, богатырь?
Ни то, ни другое, ни третье. Что может быть замечательного в этом низкорослом мужичке, подвижном и словоохотливом, с серой бородой, с карими, лукаво улыбающимися глазками. Слава Михалка основывалась главным образом на его учености.
Что же такое ученый человек, в том смысле, в каком Михалок являлся ученым для своих однодеревенцев? Известно, что каждый из таких ученых людей должен знать и уметь что-то особенное, чего не знает и не умеет другой, и при том уменье это должно дойти у него до возможного предела. Если он умеет читать, – он должен прочесть вею библию от крышки до крышки и утвердить свою башковитость, не помешавшись от этого рассудком. Если он умеет писать, – он должен уместить поэму «Демон» на простой открытке. Если он умеет считать, – он должен в любое время с точностью до единицы ответить на вопрос о количестве населения бывшей Российской империи по последнему довоенному календарю.
Михалок был замечателен тем, что умел и писать, и читать, и считать, да кроме того слыл еще знахарем. Так он не только прочел всего Пушкина, но знал наизусть наиболее длинную из его поэм, откуда мог к делу и не к делу привести точную цитату. Он умел написать любое прошение и притом так хорошо, что самый знаменитый юрист не смог бы разобрать его смысла, и в то же время – прошение трогательное до слез. Многие уверяли, что Михалок досчитал до миллиона, прибавляя к каждому числу только по единице, – но проверить, действительно ли у него хватило на это терпения, никто не мог. Знахарство же было самой изумительной способностью Михалка: так, он давал от лихорадки какие-то особенные порошки, которые болезнь, как рукой, снимали, давал какую-то особенную мазь от ревматизма, а из смородинного листа умел изготовить чай, по цвету не уступающий китайскому. И настолько умен был Михалок, что когда началось гонение на знахарей, ни его порошок, ни его мазь нисколько от этого гонения не пострадали, тем более, что порошок оказался простым хинином, купленным в аптеке губмедторга, такого же происхождения оказались и все остальные средства, применяемые Михалком.
Если добавить к этому, что в делах общественных Михалок предпочитал оставаться в стороне, умел, где надо, смолчать, но в то же время умел, где надо, сказать нужное слово, – то вполне будет понятна его репутация не только ученого, но и умного человека.
Вот к этому-то ученому и умному человеку обратились крестьяне. Михалок сощурил глаза; хитро подмигнул:
– Я вам сейчас всю подноготную выведаю.
И направился прямо к Самохину, чтобы из первых рук получить необходимые сведения.
– Меж тем как сельские циклопы российским лечат молотком изделье легкое Европы – вы отдыхаете, товарищ комиссар? – с первых же слов блеснул Михалок своими поразительными знаниями.
– Вы стихами?
– А что же, – гордо возразил Михалок. – Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Как вам лесок понравился?
Бобров после разговоров с Самохиным решил быть настороже.
– Лес превосходный. Особенно отголоски у вас – нарочно стоило из-за одного этого съездить.
– Отголоски у нас во как слышны, – схитрил Михалок: – в городе рубят, а у нас слышно… Говорят, строечка у вас затевается? – и не дожидаясь ответа, продолжал – Хорошее дело, давно пора. Был я недавно в городе – теснота. Как только и живут.
– Говорят-то говорят, да выйдет ли что, – ответил Бобров. – Три года говорят, а все без толку.
– Дельного человека не было, – с легким намеком ответил Михалок – так, чтобы его собеседник понял: не таись, мол, добрый человек, все знаем. – А ведь наша сторона плотничья, работенки нет, а с земли не проживешь…
– А вот Самохин говорит, что лучше нет, как с земли жить. Вы бы турнепс сеяли, – возразил Бобров, кивая на своего товарища, который внимательно следил за разговором.
– Поешь блинков-то, что ж ты, – сказал Самохин, обращаясь к Михалку. – Видишь, какое благо земля родит.
– Отведаем и блинков. Будь вашей хозяйке доброго здоровья: блинки отличные. А вот наши мужики все о леске беспокоятся, – начал он напрямик, отчаявшись взять собеседника окольным путем.
– Чего ж им беспокоиться?
– Поговаривают, что с зимы рубить начнут.
Михалок смотрел в упор на Боброва, стараясь уловить каждое его движение. Бобров в эту минуту был особенно увлечен блинами.
– Не знаю, – ответил он, – это не по моей части. А на мой взгляд, почему бы и не рубить. Лес под топор просится.
– Я про то и говорю. Давно бы пора рубить. Чего ему зря-то стоять без пользы. Только, – шёпотом добавил он, – мужики наши… Темнота. Слышать об этом не хотят. «Наш, – говорят, – лес» – и никаких. По темноте своей думают, да по несознательности, что коли лесок под боком бог уродил, так он и ихний…
Михалок рассыпался мелким лукавым смешком, показывая тем, что он вовсе не считает мужиков такими темными.
– А ваш лес, так кто ж его рубить будет? – наивно спросил Бобров.
Михалок, совершенно отчаявшись узнать что-либо определенное от не менее хитрого, чем и сам он, гостя обратился к Самохину.
– Может быть, он нам в городе трактор поможет раздобыть. А?
И обращаясь к Боброву:
– Вот – надумал наш Евгений порядок новый учредить. Трактор покупаем.
– Это я их на трактор подбил, объяснил Самохин. – Михалок сразу согласился, а другие нет. Не хотят.
– Хотят-то хотят, да их карман не хочет. – Ну, мне пора. Заходите, товарищ, как приедете. Насчет плотников больше никуда, только ко мне. Досвиданьице…
* * *
– Где изволили пропадать, встретил Боброва Галактион Анемподистович: – а мы тут и без вас одно дельце обделали. Лесок-то нам отдают.
– На Слуховщину ездил.
Галактион Анемподистович руками развел:
– Ну! Уж и прытки мы с вами, – это да. На Слуховщину? Какой там лес? Вырублен без нашей помощи?
Выслушав подробное сообщение о поездке, Галактион Анемподистович призадумался.
– Так вот где таилась погибель моя… Православные не хотят. Заповедничек. А это вы правильно сделали, что не проговорились этому, как его – Михалку что ли. А впрочем, пустое дело. Справимся. Едем в контору – там кой-какие дела…
С тех пор как принципиально было решено где-то и что-то строить и были отпущены небольшие покамест средства от губисполкома и небольшая же ссуда от банка, дело развернулось во всю. Юрий Степанович не мог теперь удовольствоваться паразитическим существованием где-то на фабричных задворках. Он добился квартиры из двух небольших комнат в центре города, неподалеку от всех остальных учреждений, и эти две комнаты сумел обставить с подобающей значительности предприятия пышностью. Большая вывеска над дверью, – золотом по черному, с наименованием предприятия, – кабинет, с печатным плакатом: «Заведующий Ю. С. Бобров», в кабинете большой письменный стол и кожаные кресла, канцелярия с тремя столами, причем каждый из этих столов имел свое собственное назначение. За одним из них должен был сидеть заведующий производственно-техническим отделом Галактион Анемподистович Иванов, которому, по правде, сидеть здесь было и некогда и незачем, за другим должен был находиться Метчиков, бегавший вместе с Бобровым из учреждения в учреждение, пробивая всеобщую бюрократическую косность и равнодушие, и только за третьим столом постоянно сидел заправляющий делами товарищ Алафертов.